М.В. Пропп От химии в океан и от океана к химии

Химия была частью моей жизни с отрочества и до старости и стала для меня образцом науки. Я родился в Ленинграде в 1937 г, моим отцом был Владимир Яковлевич Пропп, профессор филологии и специалист по народному эпосу, мать – Елизавета Яковлевна Антипова преподавала в университете английский. Мы жили в полуподвальной квартире с печным отоплением очень скромно – отец поддерживал моих сводных сестер от первого брака. Никакой недвижимости у нас не было, на лето снимали комнату в дачной местности. В 1941г дачу сняли в Дибунах, довольно далеко от железнодорожной станции и магазина и решили завезти (на телеге) вместе с вещами бакалейные продукты. Этот запас, который так и не попал на дачу, спас семью от голодной смерти в блокаду. Все взрослые – с нами жила старшая сестра матери – страдали дистрофией, но выжили. Обо мне заботились, и я не голодал, но о каких-либо обоснованных рационах нельзя было и думать. В марте 1942 г нас вывезли на открытых грузовиках по покрытому водой льду Ладожского озера, я до сих пор хорошо помню чудо – эмалированную зеленую миску с макаронами и мясной (!) котлетой, которую мне дали на эвакопункте. Запас продуктов, жестко поделенных на крошечные дневные порции, позволил бы нам не умереть еще два месяца. Нас эвакуировали в Саратов, мы вернулись через два с небольшим года, и нашли квартиру нетронутой, в подвале сохранился даже запас дров, пропали только некоторые инструменты.
Здоровый ребенок в раннем детстве, после блокады в первые школьные годы я часто болел. У меня была большая голова, я быстро рос и был самым высоким, но и самым хилым в классе. Много времени я проводил дома с бронхитом, тонзиллитом или ангиной, читая книги. Тетя была библиофилом, сама книг почти не читала, но собирала все –была масса книг начала века по аэронавтике, о первой мировой войне, включая химическую, о путешествиях в Арктику и Антарктику и много других. Сперва я читал романы Жюля Верна, в том числе редкие, не переиздававшиеся после революции, и путешественников, позднее Поля де Крюи, о великих людях, Перельмана и все подряд.
Как и у всех мальчишек, интерес к химии начался с взрывов – всякого пороха и боеприпасов после войны было предостаточно, для сельского хозяйства продавались сера и селитра (органические перекиси мальчишкам были еще неизвестны). Покончив с самопалами, ракетами и моделями ракетных катеров лет в 11-12, я перешел собственно к химии и решил получить натрий. Мой отец был гуманитарием и о практических деяниях своего ребенка видимо не имел ясного представления, он считал, что детям надо предоставить возможности для совершенствования. Он был очень музыкален, хорошо играл на рояле, и огорчался, видя во мне полное отсутствие интереса и способностей к музыке, но на меня не давил и на рояле играть не заставлял.
Натрий был получен на кухне электролизом расплавленного в фарфоровом тигле на газовой плите едкого натра, анод и катод железные, катод был вставлен в железную трубку, сетевое напряжение 110 v подводилось через содовый выпрямитель. Натрий получался и через несколько минут после начала процесса начались сильные хлопки – натрий вспыхивал – с клубами дыма, затем расплав проел тигель и протек на плиту. Я выключил ток, дал остыть и стал мыть приспособления в раковине. Тут горячий щелочной раствор плеснул мне в лицо, а ожог глаз щелочью очень опасен. К счастью, я знал, что делать и немедленно сунул пострадавший глаз в струю воды из под крана. Сильно испуганный отец отвел меня в срочную глазную помощь, где мне мало чем смогли помочь. Дело ограничилось ожогом слизистой, зрение полностью сохранилось, но этот левый глаз и теперь краснеет и зудит гораздо чаще правого. После этого я решил получить, тоже электролизом, бром. Сначала бромная вода, потом и бром были получены. Но тут моя мать рассказала коллегам об успехах сына, и они пришли в ужас – бром ядовит. Процесс пришлось прекратить, а переливая бром в склянку с притертой пробкой я пролил его на руку. С кисти я успел его смыть, но между пальцами получил ожог, который прошел без врачебной помощи.
Между тем в школе я был уже в восьмом классе. Начинали работать гормоны и болезни постепенно отступали. Я не был изгоем в классе, но не было у меня и близких друзей, так, гогочка из профессорской семьи. Учился я хорошо и учителям не доставлял хлопот, начались уроки химии. Химичка была добродушная и открытая, меня высоко ценила, доверяла проверять письменные работы других учеников и даже дала ключ от химического кабинета и разрешила там работать в любое время. В шкафах с незапамятных времен было много реактивов, в том числе бертолетова соль, арсенит натрия и соли ртути. Но интерес к взрывам и ядам сошел на нет, замыслы получить фосген и иприт (довольно простые синтезы) так и остались замыслами, изготовлен был только бромацетон – сильнейший лакриматор, трех капель достаточно, чтобы находиться в просторном школьном классе стало совершенно невыносимо. На книжном развале я купил подержанный учебник химии Б.В. Некрасова 1937г, и он стал любимым чтением. Особенное впечатление на меня произвел редкостный синий газ, который исчез из всех последующих изданий – и я до сих пор не знаю, существует ли он или эта была какая-то ошибка либо даже мистификация. Формула была приведена, но способ получения и ссылки отсутствовали. Вблизи дома я обнаружил магазин химической посуды и за мои небольшие карманные деньги покупал колбы Вюрца, промывалки Дрекселя и Тищенко и другое стекло. Почти уверен, все это списывалось как разбитое, а деньги поддерживали продавщицу и ее семью – война кончилась, но времена были трудные. Вместе с ресурсами химического кабинета и знаниями мои возможности как химика очень возросли, и следующий шаг был много серьезнее.
Еще в четвертом классе отец подарил мне свой Фотокор 9 х 12 с пластинками и занимался со мной фотографией, мне это очень нравилось и продолжалось всю жизнь, только теперь камеры цифровые. В пятидесятые годы появились материалы для цветной фотографии, но ни реактивов, ни наборов для обработки в продаже еще не было. Я решил синтезировать цветное проявляющее вещество. Потребовалась работа над литературой и модельные опыты. Я составил план, он оказался правильным, но эта была задача для студента 3 курса химфака, а не школьника 8-9 класса:
анилин ?N,N-диэтиланилин? p-нитрозодиэтиланилин? N,N–диэтилпарафенилендиаминсульфат (ЦПВ-1). Потребовалось получить бромистый этил, двухлористое олово, анилин из солянокислой соли и вспомогательные вещества. Работа шла не очень быстро. Для получения диэтиланилина следовало нагревать анилин с этилбромидом под давлением. Автоклавом была бутылка из под шампанского в водяной бане с пробкой, прикрученной медной проволокой. Все шло хорошо, но вода выкипала, и я решил ее подлить. По неопытности добавил холодную воду, бутылка треснула и взорвалась. Все происходило в тяге, дверца была опущена, стекла выдержали, я не пострадал, хотя взрыв был громким. После длительных усилий ЦПВ был получен, он проявлял, но был недостаточно чистым и вуалировал, пользоваться им было нельзя, да и наборы для обработки цветных материалов появились в магазинах.
В десятом классе интерес к химии стал убывать, хотя я и стал в третий раз победителем городской школьной олимпиады по химии (в то время это не давало никаких льгот). Я учился неплохо, но не на медаль. Дело шло к выпускным экзаменам и поступлению в ЛГУ. Всем моим родственникам, товарищам и учителям, да и мне самому, решение казалось однозначным – химфак. Правила были очень жесткие, после школьных выпускных семь приемных экзаменов, на здоровье абитуриентов это сказывалось губительно – перенапряжение, всякие гипертонии и нервные срывы, вообще о здоровье трудящихся в СССР говорили много, но делалось очень мало. Все лето пришлось заниматься, отвлекаясь только на плавание в летнем деревянном бассейне, где по старым учебникам я пытался научиться хорошо плавать. Я оказался единственным, получившим 35 баллов (конкурс был 7 человек на место, проходной балл 28) и на вопрос о способах получения какого-то хлорида железа написал 16 разных уравнений, поскольку знал про фосген и высшие степени валентности благородных металлов. Через два или три года доцент К.П. Столяров, экзаменуя меня по аналитической химии, вспомнил, как проверял мою вступительную работу и надеялся, что из меня получится первоклассный химик. С грустью поставил мне четверку – я явно не тянул на его ожидания. Надо сказать, что мое экзаменационное сочинение проверяла выпускница моего отца, и она даже прибежала к нам домой, чтобы сообщить, что я получил пятерку. Я всегда был не в ладу с запятыми, писал на четверки, пятерок почти не получал, но трудно ли было не заметить отсутствия запятой, или даже вставить ее в нужное место.
Я стал студентом и, к своему удивлению, на соревнованиях первокурсников выиграл плавание брассом, выполнив третий разряд (среди новичков третий разряд показывает примерно один из тридцати, второй – один из двухсот и из такого можно надеяться вырастить мастера спорта) и попал в секцию спортивного плавания. Я впервые увидел на лекции настоящего ученого- химика – это был Сергей Михайлович Ария и он произвел на меня глубокое впечатление, которое еще усилилось на практических занятиях. Не все, однако, шло так уж хорошо – быстро выяснилось, что я не умею слушать лекции. Если я пытался конспектировать, то ничего не запоминал, задумываясь о сказанном, переставал слышать лектора и вообще книжный текст воспринимал гораздо быстрее и лучше устной речи. Ко второму курсу я ограничился посещением первой и последней лекции по каждому курсу и учился по книгам. К счастью для меня, экзаменаторы не требовали предъявления конспектов. На этих первых лекциях у меня появились друзья, некоторые на всю жизнь.
Самым важным местом стал, однако, плавательный бассейн. Я на всю жизнь сохранил благодарность к своему тренеру А.А. Голубевой. На втором курсе я достиг своего потолка – чемпион университета, выезжал на соревнования в Москву и подошел к первому разряду. Он был мне оформлен, но тренерам требовалась отчетность, и был ли он выполнен без приписок, я совсем не уверен. Плавание и ныряние я полюбил на всю жизнь. Я занимался также в секции альпинизма, поехал летом в альплагерь, получил значок «Альпинист СССР» и на этом мои успехи кончились, ловкости не хватало, для соревновательного спортивного альпинизма я не подходил. Зато о бронхитах можно было забыть, а небольшая операция тонзиллэктомии покончила с ангинами. Счастливое было время, особенно после мрачной казенной школы, можно было дышать.
Требовалось определить, что делать дальше. Химия делится на экспериментальную и теоретическую. Первая, отчасти кухня, имеет дело с реальным веществом. Экспериментатор когда-то имел дело с аппаратами, очень схожими с кухонными, сейчас нередко использует сложнейшие и точнейшие приборы. Но он по-прежнему должен практически уметь обращаться с любым веществом, работать чисто, не бояться, не подвергать опасности себя и других. Вещества бывают очень разные и обращение с ними соответственное – ложку сульфата натрия полезно принять внутрь при запоре, малейшая оплошность при работе с диметилртутью означает мучительную смерть. Теоретик в то время работал с бумагой и механическим калькулятором, сейчас обычно с компьютером, но главным аппаратом служит собственный мозг. На первых курсах обучения он тоже работает с веществами, знает о них гораздо больше экспериментатора, но в своей дальнейшей работе обычно их даже не видит. Теоретическая химия включает труднейшие разделы термодинамики и квантовой механики и требует владения сложным математическим аппаратом.
Я понимал, что стандартная подготовка по математике в школе и на химфаке недостаточна и решил самостоятельно изучить матфизику и ее аппарат. Три раза в неделю, когда день не начинался с бассейна, вставал в 5 утра и два часа учил вводный математический курс матфизики. Через два месяца с горечью осознал, что ничего не понимаю. То есть я мог повторить формулы теории операторов, но лишь как попугай, и не мог решить ни одной задачи. Много позже уже от своих учеников – физиков я узнал, что это вполне нормально, и почти каждый физик проходит эту стадию. Тогда же я решил, что теоретическая химия мне не светит, мозгов не хватает, я экспериментатор. Это было правильно, хотя совсем по другим причинам.
Надо было специализироваться, и я пошел к С.М. Арии, но меня интересовали интергалоидные соединения, которые были ему безразличны, а меня не вдохновляло измерение магнитных свойств и я перешел на органику. Общий практикум по органической химии преподавали хорошо, но очень архаично. Лаборатория мало отличалась от первой в мире лаборатории Либиха – на каждом рабочем месте газовая горелка, проточная вода для холодильников, подвод вакуума от водоструйного насоса без вакууметра, корковые пробки, пробочные сверла, пробкомялки и нитролак для уплотнения пробок при работе с вакуумом. Стандартные шлифы, колбы с электропроводящим покрытием, роторные испарители уже существовали, но в другом измерении. Все же работать было интересно и полезно, практикумы я никогда не пропускал. В общем, плавание, занятия, еще и любовь плотно заполняли время.
Но в самом конце 1956г я увидел первый широкоэкранный подводный фильм – 20 минут под водой, снятый в Средиземном море, и до моих ушей долетел могучий призыв океана. В январе я уже пробился в водолазную школу, которую закончил к лету. Вместе с Зосиным и Корольковым и еще двумя энтузиастами мы стали готовиться к самостоятельной экспедиции на Черное море. Эту часть своей жизни я не стану здесь описывать, ведь речь идет о химии, мои книги, если кому-то интересно, можно найти в интернете. Мы вернулись с Черного моря с окрепшим энтузиазмом, нужно было готовить следующую экспедицию, но был уже четвертый курс, я выбрал кафедру природных соединений. Заведовал кафедрой профессор Г.В. Пигулевский, он был уже стар, и моим шефом стал доцент Сергей Аркадьевич Кожин. На лекции Пигулевского мне пришлось ходить, так как было всего трое слушателей и не было печатного курса. Один раз я опоздал к началу, и профессор ждал меня, было очень стыдно. Его специальностью были терпены, меня больше интересовали антибиотики, но это можно было реализовать позднее. Кожин отнесся ко мне корректно и терпел мои разговоры по лабораторному телефону (дома телефона не было) о морских делах, бесконечно далеких от химии и для него непонятных и неинтересных. Курсовая работа была совсем простой и усилий не требовала. Я довольно успешно продолжал прогуливать лекции и готовиться по книгам, многое даже запоминал и помню до сих пор, четверок было примерно поровну с пятерками. Но, в конце концов, залетел – любовь привела к свадьбе, появился сын Андрей. Вначале спокойный, он плакал по ночам и не давал спать, а нужно было учить коллоидную химию, разные золи и гели. То ли я вообще пропустил раздел, то ли в программу лекций входил материал, не представленный в книге, но на одном вопросе в билете я поплыл - не знал даже, о чем идет речь. Доцент предложил мне либо первую в моей зачетке тройку, либо пересдавать. Но подготовка к экспедиции на Черное море была в самом разгаре, я предпочел первое.
Вернувшись из второй экспедиции на Черное море, мы с Зосиным задумали уж вовсе небывалое – полярное Баренцево море, где еще никто не погружался. Тогда все знали, что ныряют голыми в теплые воды, вокруг клуба подводников роились сотни, но ни одного единомышленника не нашлось. Руководители клуба запросили гидрометслужбу о возможности погружений на Мурмане, получили категорический ответ – «Погружения в Баренцево море невозможны из-за большого количества косаток и акул» и отказали во всякой официальной поддержке. Правда, многочисленные товарищи по клубу очень поддержали нас и научили многому из своего опыта. Наши студенческие возможности были очень ограничены, а нужно было придумать и сделать все новое снаряжение, наши переделанные военные кислородные аппараты в холодной воде были смертельно опасны. Работать приходилось изо всех сил. А мне уже нужно было делать дипломную работу, темой которой С.А. Кожин предложил синтез одного стереоизомера терпена из другого по типу цис - транс изомерии. Подход он заимствовал из химии стероидов и перенес на терпены. Исходные стереоизомеры были редки и дороги, и я должен был лишь проверить ход синтеза на модельных производных циклогексана и по возможности получить высокие выходы промежуточных продуктов. Процедуры были стандартные для органической химии – всякие ректификации, этерификация и омыление боковых групп, окисление перекисью водорода, восстановление, кажется алюмогидридом лития или боргидридом натрия. К апрелю я получил первую порцию конечного продукта, но выход был низким. Теперь нужно было провести вспомогательные операции – точно определить удельный вес, показатель рефракции, снять рамановские спектры и сделать элементный анализ, параллельно наработать еще продукт и начинать писать. Я получил от шефа список литературы, в то время каждую ссылку требовалось просмотреть в оригинале. Английским я в некоторой степени владел, едва разбирался в немецком, одна работа была на шведском. Спросил шефа, как быть – «Работа небольшая, переведите со словарем подстрочно». Я взял шведско-русский словарь и стал переводить. И тут я получил удар могучим кулаком точно в лоб, в голове помутилось, – одна из стадий шла с обращением конфигурации. Это означало, что, начатый со стереоизомера А, синтез мог привести только снова к исходному изомеру.
За всю свою жизнь лишь один раз, на границе между детством и отрочеством, столкнулся я с чем-то подобным, когда случайно подглядел и подслушал тяжелую сцену ссоры между отцом и матерью. Оба любили меня, как и я их, и ничего подобного я не мог даже вообразить, тем более не знал, что делать. Теперь я тоже был совершенно сбит с толку – мой учитель, шеф и образец ученого пропустил мелкую деталь и вся моя работа потеряла смысл. Я подошел к Кожину и сказал –« Моя работа совершенно не имеет смысла, получить транс-изомер таким путем нельзя». Он посмотрел с недоумением и спросил, почему. «В четвертой стадии происходит обращение конфигурации, заместитель входит в молекулу с противоположной стороны.» Он сразу понял, покраснел и стал бормотать что-то неразборчивое, потом овладел собой и стал говорить, что моя работа все равно нужна, что я получил два ранее неизвестных эфира (небольшое достижение), нужно только правильно все подать в дипломной работе. А в моих ушах чудовищно громко, заглушая все, взревел океан, неведомое ждало меня в его глубинах, там пролегал мой звездный путь, что мне вся эта мышиная возня. Я не был таким уж ригористом, иногда и врал, когда прижимало, но писать почти что подделку (теперь это называется лукавить) было выше моего понимания. Ведь мне еще не было 22 лет, жизнь казалась прямой и простой, четко делилась на правильное и неправильное, хорошее и плохое. Но и никакого выбора не было – бросив все, за оставшиеся полтора месяца я мог бы лишь накропать плохонький обзор литературы и получить заслуженный трояк.
Теперь, спустя более чем полстолетия, я гораздо менее категоричен, сам наделал много ошибок и знаю, что никто от них не избавлен. А тогда я закончил экспериментальную часть, написал дипломную работу и очень легко ее защитил на пятерку, все меня хвалили, что было особенно неприятно. Оба эти случая сильно сказались на формировании моей личности и усилили некоторые не самые лучшие мои черты – я очень неохотно пускаю других в свой внутренний мир и по натуре одиночка. Последний случай также очень облегчил мне самое важное решение в моей жизни.
А потом поезд унес нас с Зосиным в Мурманск, старенький пароход доставил за 120 км в губу Зеленецкую, или Дальнюю, где был расположен Мурманский морской биологический институт.
Море было перед нами и никаких правил и ограничений – ведь мы были пионерами, шли путем, еще не пройденным никем. Эмоции и успех превзошли все ожидания, и в конце директор Института пригласил меня начать в институте водолазные исследования. Я был распределен в Институт высокомолекулярных соединений АН СССР, попал в лабораторию очень известного биохимика С.Е.Бреслера. Он только что вернулся из США и с воодушевлением переводил свою лабораторию на новое направление молекулярной биологии , написал первый в СССР учебник по этой дисциплине. Он был чрезвычайно изобретателен в создании остроумных теорий, а мне было поручено доделывать хвосты по старой тематике, связанной с синтезом полипептидов сверхвысоким давлением. Ни Бреслера, ни меня это не интересовало, я видел свое будущее в исследовании океана.
Семья была в ужасе, отец грустил, резко возражала мать, молодая жена почти перестала со мной разговаривать. Решение было принято и осуществлялось без колебаний, хотя и с переживаниями. Формальности с переводом задержали меня почти на год, но летом 1960г я был в Дальних Зеленцах, на том же пароходе прибыли шесть молодых специалистов, выпускников МГУ.
Север прекрасное, но суровое место. Самоубийства в поселке случались почти каждый год, алкоголики составляли большую часть населения. Я довольно нелюдим, не люблю застолья, водку пью только при полной невозможности отказаться, равнодушен к пиву, не курю, хотя охотно употребляю хорошее вино. В Дальние Зеленцы его не завозили никогда, только плодовоягодное и дрянные портвейны, которые и в рот-то взять может только завзятый алкоголик. Пан – или пропал – будущее было неясным. Казалось, что навыки химика понадобятся мне разве что для составления экзотических припоев, гальванического и химического никелирования деталей водолазного снаряжения и проявления цветных фотоматериалов. Вышло совсем не так.
Биология переживала тяжелейшее время. В 1949г прошла сессия ВАСХНИЛ, завершившаяся полной победой Т.Д. Лысенко, свою речь он закончил тем, что его точку зрения поддерживает лично Иосиф Виссарионович Сталин. Генетика была объявлена буржуазной лженаукой, преподавание генетики прекращено, а заодно и математики и статистики биологам. Лысенко говорил – если химик или математик нам понадобятся, мы их наймем. Ученым было предложено публично отречься от вражеских взглядов. Крупнейшие специалисты были изгнаны со своих постов, некоторые расстреляны и репрессированы или покончили с собой, другие стали библиотекарями, зоотехниками, орнитологами, председателями колхозов либо были высланы из Москвы и Ленинграда на периферию с понижением до рядовых научных должностей. Это был итог многолетней борьбы, в которой Лысенко был не движущей силой, а лишь рьяным орудием правящей партийно-бюрократической системы, аппарата ЦК КПСС в Москве и вождей на местах. Они стремились лишить научных сотрудников и их организации самостоятельности и руководить ими в своих целях. Процесс этот начался в конце двадцатых годов и продолжается и сейчас и это одна из причин плачевного состояния не только биологии, но и всей науки. После смерти Сталина началось возвращение к генетике как науке, но шло оно очень медленно и противоречиво – Н.С. Хрущев надеялся, что академик Лысенко поможет ему поднять сельское хозяйство.
Научные сотрудники ММБИ представляли очень странную смесь. Только директор, профессор Михаил Михайлович Камшилов, получил в свое время полноценное систематическое университетское образование в Москве. Выдающийся генетик, он в 1940 г опубликовал работу, вошедшую в золотой фонд мировой науки. В 1949г он был выслан из Москвы в Дальние Зеленцы научным сотрудником и сменил тему исследований, к 1959г стал директором. Многие сотрудники вообще никогда не слушали курсов количественной биологии, генетики, статистики. Статистическую ошибку измерений они понимали как ошибочные измерения. Но еще хуже было тем, кто на разных курсах последовательно, а иногда и одновременно, слушали и дидактику Лысенко, Бошьяна и Лепешинской и классические курсы количественной биологии, генетики, статистики – они просто не знали, что и как им выбрать и делать. Гидробиолог умел собирать животных, различать и определять до вида, консервировать, считать и взвешивать. Данные он представлял в виде карт и таблиц, иногда сравнивал результаты по разным районам, дальше обычно не шел.
Что делать со мной, никто толком не знал, и я мог решать это сам. М.М. Камшилов относился ко мне благосклонно и дал возможность получить водолазное оборудование и приглашать моих друзей водолазов на время их отпуска, поскольку нырять в одиночку трудно и опасно. Он был образованный человек, знал пять языков, был широко эрудирован в литературе, великолепно вел семинары. Но он был, прежде всего, исследователем, у него не было учеников, лишь технические исполнители. Он относился к сотрудникам института благожелательно, но довольно прохладно и сдержанно, охотно консультировал, но все свои исследования выполнял один. Институт был для него временным пристанищем и скоро он вернулся в Подмосковье, где стал известным теоретиком биологии и экологии и философом. Для меня он был примером ученого, но лишь самого общего характера, в науке он помогал мне советом, но его интересы лежали в иных плоскостях.
Первые два года прошли в эйфории погружений и традиционного описания тех донных сообществ прибрежья, которые раньше были недоступны. Я увидел свою первую работу напечатанной в трудах ММБИ, потом реферат в реферативном журнале и у меня потемнело в глазах от счастья. Эта была вполне ученическая работа, но я сделал что-то стоящее, и это было начало. Однако я был химик по образованию, по строю мышления и одно описание меня не удовлетворяло. Мне читали статистику и теорию измерений, но просто перенести их в море было невозможно. Почти год я каждый день работал над нетолстой и ясно написанной книгой Рональда Фишера «Статистические методы для исследователей» и смог представить, как приложить их к обитателям морского дна, позднее Фишера дополнила «Теория эксперимента» В.В. Налимова. Дело было совсем не в том, что и как считать, нужно было понять, как выявить закономерности природы.
С большим энтузиазмом принес я рукопись М.М. Камшилову. Он меня одобрил и кое-что поправил, но для него это было рутинное дело, моего энтузиазма он не разделял. Рукопись попала на рецензию к одному из умнейших биологов, С.В. Ивлеву, получила хороший отзыв и была напечатана, я понемногу становился на собственные ноги. В институте я избегал участия в интригах, у меня не было явных недоброжелателей и врагов, но мнение большинства было – «Похоже, этот Пропп довольно умный, но работы у него какие-то не такие, понять трудно». В 1963г у меня появился первый сотрудник, Саша Пушкин, окончивший институт Лесгафта и лаборант из местных поморов. Работа разворачивалась и шла хорошо.
И тут мне пришла в голову мысль – АНТАРКТИДА. Она казалась диковатой, и даже мой учитель водолазного дела воскликнул –«Да водолаз же там ко льду примерзнет!». Но я хорошо знал – не примерзнет. В погружениях в Антарктике я не был первым – еще в 1903г водолаз на судне «Гаусс» во время зимовки погружался под лед и сменил сломанную лопасть винта. Было еще несколько единичных спусков – американские военные водолазы извлекли тела из провалившегося под лед вездехода и чистили вход морского водопровода. В журнале текущей информации Полярного института Кембриджского Университета (ММБИ имел на редкость хорошую библиотеку, я часто и подолгу в ней сидел) прочел заметку американца, зимовавшего на Мак-Мердо и сделавшего за год семнадцать погружений под лед, в том числе зимой. Он-то и был пионером, только он не знал, что ему подо льдом делать и никогда больше ничего не опубликовал. Позднее одно упоминание о нем в разговоре с американскими коллегами вызывало у них сильнейшее раздражение – Доктор Пекьюкнат - сказал я - «Он не доктор!» немедленно перебил меня собеседник.
Но я действительно предложил первую программу водолазных гидробиологических исследований для Антарктики и в тот же сезон очень похожую начали выполнять американцы на своей станции. Программа была осуществлена очень успешно. Помимо пережитых сильнейших положительных эмоций я, А.Ф. Пушкин и Е.Н. Грузов из Зоологического института вернулись из Антарктики персонами совсем иного ранга. С трудом попав в экспедицию младшими научными сотрудниками без ученых степеней, вернувшись, мы оказались на страницах «Правды» и «Советского Союза», героями Антарктической экспедиции и всей страны, а с героями было туговато. В самой Антарктической экспедиции слово герой употреблялось с издевкой – это тот, кто сам себя завел в тяжелые обстоятельства и изо всех сил выкарабкивается. Мы с Грузовым попали в Кембридж на международный конгресс по биологии Антарктики, наши выступления были хорошо приняты. Я познакомился с американцами, начавшими подобные исследования одновременно, установились вполне дружеские и деловые отношения. Мы сами поверили в себя, да и другие теперь относились к нам вполне серьезно.
Надо было продолжать, но жизнь подставила подножку. Успешно защитив в Москве кандидатскую диссертацию, которую мне предложили опубликовать в виде монографии, я отправился на Кавказ кататься на горных лыжах. Я руководствовался популярными тогда представлениями – чем больше нагрузка, тем сильнее становится организм. Мало кто знал и учитывал, что стресс вызывает падение иммунитета. К многолетней нагрузке добавилось сильное солнечное излучение и снижение содержание кислорода в горном воздухе, нагрузка от лыж. Бессимптомный абсцесс у корня зуба прорвался в кровь – тяжелый стафилококковый сепсис, смертельный в половине случаев. Лечение шло тяжело, многие врачебные решения были далеки от оптимальных, только через полгода я выписался из больницы с атрофированными мышцами, разжирев от стероидов на 15 кг, с расстроенными нервами и терморегуляцией. Я получил рекомендацию уехать с Севера и перейти на преподавательскую работу, но лечившая меня врач была человеком умным и сказала мне на прощание: «Вы не совсем обычный человек с сильной мотивацией. У Вас есть шансы вернуть здоровье, если будете всерьез этим заниматься. Предсказать ничего не могу, но это в Ваших руках».
Через полгода я начал понемногу погружаться, спустя год взял рюкзак и поехал в горы. Способность таскать рюкзаки и нырять постепенно возвращалась, я смог работать под водой и участвовать в длительных экспедициях. Конечно, прежнего здоровья уже не было, перестал кататься на горных лыжах, Антарктида была не для меня, нервозность не давала водить машину, но инвалидом не стал. Грузов возглавил и успешно провел две экспедиции в Антарктику, а я вернулся в Дальние Зеленцы к своей группе и работе.
К этому времени коллектив заметно окреп, А.Ф. Пушкин перешел в Зоологический институт, но работали два мнс, инженер, местные лаборанты из поморов. Переходили с курса на курс студенты-биологи ЛГУ, имевшие водолазные права и видевшие свое будущее в исследовании океана. Каждый год приезжали спортсмены, которые за возможность нырять совершенствовали технику, строили, конструировали и изготовляли. Нырять на Севере стало модно, даже зимой бывали группы спортсменов. Мне они никак не подчинялись, но у нас уже была мощная компрессорная станция, способная снабдить всех сжатым воздухом. Отношения, впрочем, опирались в наибольшей степени на взаимное уважение и общее дело.
Заниматься одним количественным учетом и описанием постепенно становилось неинтересным и недостаточным, методики были уже разработаны, это могли делать студенты в дипломных работах. Прошло примерно десять лет от начала и настало время вспомнить о химии и перейти к исследованию и измерению процессов в море. С точки зрения химика океан можно представить как многофазную систему – вода, атмосфера, грунты, морские организмы разных видов. Процессы метаболизма - это процессы фазового обмена на поверхностях раздела, непосредственно измерить их удается редко, обычно определяют разности концентраций и их динамику во времени. Это задача аналитической химии, часто называемой в науках о море гидрохимией. В университете я особого внимания аналитике не уделял, но теперь вспоминал и осваивал легко. В начале это были традиционные методики, но их нужно было приспособить к специфическим задачам. Главнейшим считался энергетический обмен, тесно связанный с дыханием и фотосинтезом, т.е. обменом кислорода. Мы должны были научиться измерять обмен кислорода прямо в море у животных, водорослей и целых сообществ. Направление было модным – шла международная программа определения продукции экосистем, Г.Г. Винберг написал руководство, которое было переведено и распространялось как международные рекомендации. Он неоднократно бывал в Дальних Зеленцах, его узкой специальностью было исследование продуктивности озер, и я не раз с ним встречался по разным деловым вопросам. В основу был положен очень старый метод Винклера, но склянки были заменены шприцами.
Сходный метод предложил еще в тридцатых годах Нобелевский лауреат Крог, но его почти не применяли. Программа получила внутреннее название «лаборатория в море». Шприцы позволяли отбирать пробы многократно прямо под водой из сосудов и из моря. Концентрации соединений азота и фосфора определяли однократно до и после экспозиции. В общем, шло хорошо, публиковались результаты, накапливались материалы для будущих диссертаций. Однако довольно быстро стало ясно, что для животных и водорослей данные мало отличались от полученных в аквариумах со сходной температурой и другими условиями и что метод очень трудоемок.
Водолаз неуклюж под водой, он несет на себе тяжелое и громоздкое снаряжение, обзор уменьшен маской, дыхание затрудняет акваланг, его покачивает волнами, на него давит течение. Представьте себе химика в ватных штанах и ватнике, поверх них в шубе, в жестких диэлектрических перчатках и высоких резиновых сапогах со свинцовыми стельками, в противогазе с запотевшими стеклами – вот примерно и будет водолаз. Работать он должен тонкими лабораторными приборами, которые легко сломать и еще легче сделать мелкую ошибку. Ни малейшей романтики, он работает не ради романтических эмоций и получает не за факт погружения, а за то, что выполняет работу. Как только стало ясно – а это стало понятно не сразу – что результаты измерений в природе мало отличаются от полученных в аквариумах со сходными условиями, роль водолаза стала уменьшаться. Лабораторные операции начали переноситься в лабораторию. В аквариум можно пересадить животных и переложить образцы каменистого грунта, но песок или ил нельзя перенести, не нарушив структуру. В 1973 г наши методы были комплексно опробованы в экспедиции в губу Зеленую, небольшую полузамкнутую бухту на полпути от Мурманска до губы Зеленецкой. Был собран неплохой материал, студенты и сотрудники получили практический опыт комплексных работ, материал лег в основу нескольких журнальных публикаций.
Тут, однако, наступило время поменять место работы. Были и причины, и повод. Троим студентам оставался последний пятый курс, нужно было место для работы. На Дальнем Востоке стремительно разворачивался новый исследовательский центр, в который входил отдел (впоследствии институт) биологии моря (ИБМ). Возможности казались безграничными. Директором - организатором был А.В. Жирмунский, он в 1959г послал нас с Зосиным на Баренцево море, его я как инструктор обучал – чисто теоретически – водолазному делу. Жирмунский неоднократно предлагал мне стать заведующим лабораторией.
Поводом стала смена директора в ММБИ. Про трех первых, с которыми я работал более 12 лет, не могу сказать ничего плохого, о новом, И.Б. Токине, ничего хорошего. 4 января 1974г я сошел с самолета во Владивостоке, вскоре перебрались и основные сотрудники.
Хотя возможности действительно были, но СССР был государством абсурда, ограничения существовали, не всегда ясно видимые, но часто непреодолимые. Тем не менее, здесь все кипело, и мы с энтузиазмом взялись за организацию лаборатории. Летом приехали студенты, их дипломными работами стало количественное описание донного населения в заливе Восток, где располагалась биологическая станция института. Основное уникальное, сделанное собственными руками, оборудование и часть водолазного снаряжения нам удалось переправить на Дальний Восток, и весь состав готовился к подводным метаболическим измерениям, одновременно подготавливая полученные на Севере материалы к публикации.
Институт между тем предвкушал знаковое событие – выход в море в 1975г своей первой морской тропической экспедиции на судне «Каллисто». Ни я, ни сотрудники не стремились в нее попасть, но как член ученого совета я должен был участвовать во множестве совещаний. Меня очень удивляло, что собственно о научной работе не было сказано ни слова. О чем только не говорили – директор А.В. Жирмунский считал, что каждый сотрудник института должен побывать в тропиках. Это очень неплохо, но все же хотелось знать, что, почему и для чего эти сотрудники будут в волшебных странах делать. Я довольно быстро понял реальную причину – тропические рейсы несли, прежде всего, политическую и пропагандистскую задачу – демонстрировать мощь и влияние СССР, особенно в странах с так называемой неясной политической ориентацией. В тропики хотели очень многие, малочисленный научный персонал терялся среди множества секретарей отделов науки партийных органов, чиновников и сотрудников московских научных и полунаучных советов и комиссий, был один из высших чинов аэрофлота, который обеспечил всех участников билетами на самолеты во время их жесточайшего дефицита. Были и серьезные молчаливые люди, принадлежность которых была видна издалека.
Судно дошло до Фиджи, после многочасовых обсуждений с фиджийцами совместных программ, при которых рекой лился традиционный русский напиток и потреблялись деликатесы из особого фонда капитана и начальника экспедиции, приступили к работам. Водолазы, послав подальше все приказы начальников, собирали комодные раковины и кораллы, всякие люди наслаждались кавой с приветливыми аборигенами, женщины изучали тайны фиджийских рынков. По международным правилам перед отходом необходимо представить отчет принимающей стране. Таковой был составлен, две переводчицы перевели его на английский. С переводом на русский они еще как-то справлялись, при обратном просто подставляли слова по словарю. Фиджийцы приняли отчет и корректно ответили, что республика не имеет квалифицированных специалистов для его оценки, и он будет отправлен на независимую экспертизу в Новую Зеландию.
«Каллисто» подняло красный флаг и вышло из вод Фиджи, поработав в разных местах, под звуки победных фанфар вернулось во Владивосток. Прошло несколько недель, и грянул гром.
Фиджийцы ответили, и не во Владивосток, и не в Академию наук, а в Министерство Иностранных Дел. Ответ был такой: « Экспертиза представленного отчета показывает, что его авторы не исследователи океана и научные сотрудники, а распространители и пропагандисты идей мирового коммунизма, и сотрудники спецслужб. Судно «Каллисто» является не научным, а шпионским судном. Поэтому не только это судно, но и другие, так называемые исследовательские корабли Академии наук СССР более в территориальные воды Фиджи допускаться не будут». Произошел грандиозный скандал, но никого не наказали – чиновники не могли наказывать сами себя.
Зато научному персоналу попадать в тропические рейсы стало много легче. Я внешне напоминал европейского профессора, мог объясняться и даже писать на английском, имел зарубежные публикации – все это теперь очень ценилось, вместе могли попасть и мои сотрудники. Судно между тем встало в ремонт, который сильно затянулся и следующий рейс начался только в 1978г. Корабли АН СССР были допущены на Фиджи лишь через десять лет.
Все эти годы мы совершенствовали методики измерения метаболизма под водой и в лаборатории, они были обобщены в методическом руководстве «Методы химического анализа в гидробиологических исследованиях», Владивосток, 1979. В основном внесенные изменения были техническими и сводились к оптимизации всех шагов анализа. Если в 1973г для определения содержания кислорода требовалось 100-200мл воды, то через 20 лет лишь 2 -5-10 при значительном ускорении анализа и сохранении воспроизводимости и точности. Для определения органических форм азота и фосфора был освоен метод фотолиза УФ - излучением. Проточные измерительные системы в большой степени заменили водолаза под водой, хотя полностью автоматизировать весь процесс было невозможно. Мне нравилась эта работа, особенно проточные системы с перистальтическими насосами, усовершенствование спектрофотометрических и флуоресцентных методов определений. Уровень работ повышался, приходило признание, в 1976г в составе делегации с докладом попал в Германию, затем почти каждый год ездил в США – была провозглашена разрядка и осуществлялась программа совместных морских биологических исследований.
Заведующий лабораторией работает с людьми и часто попадает в неожиданные, порой комичные ситуации. Мы переезжали в новое здание, мужчины подвозили оборудование на тележке и поднимали в лифте, женщины раскладывали по ящикам новой мебели. «Вот в этот ящик поместим наиболее ценные материалы» сказал я; на следующий день обнаружил, что ящик заполнен ватой и марлей. Я считал невозможным что-либо запирать от сотрудников. В сейфе под замком хранились только спирт, яды, драгоценные металлы и очень хрупкие и труднодоступные фотоумножители. Все остальные редкости находились в отдельном шкафу, открытом, но с крупной надписью « Брать только по согласованию с заведующим». Там лежал, в частности, крайне дефицитный силиконовый шланг редкого диаметра, который я выклянчил у коллег в США для одной из наших установок. Вернувшись из месячной командировки, я обнаружил, что этот шланг стал дверной пружиной в соседней лаборатории физиологии, с сотрудниками которой наши гидробиологи нередко вместе выпивали.
В 1978г Каллисто после многих задержек вышло из ремонта, и мы отправились к берегам Австралии на Большой Барьерный риф. Начался период больших морских экспедиций, который продолжался до 1990 г. Мы применяли наши методы, установки и навыки к различным объектам тропической экосистемы. Результаты получались неплохие, но начать с середины невозможно, нельзя не набить себе шишек, нужно выявить и устранить множество источников ошибок, для этого требуется время и опыт. Ошибки в основном были связаны c проницаемостью трубок из силиконовой резины и поливинилхлорида для газов и очень быстрым ростом бактериальных и водорослевых обрастаний в условиях протока и высокой температуры на стенках шлангов и сосудов. Методы контроля, разработанные в ходе экспериментов в умеренных широтах, часто оказывались недостаточными.
Возникали и серьезные трудности общего порядка – настоящего научного плана по-прежнему не существовало. Разного рода директивных документов и программ становилось все больше, но это был пример основной менеджерской ошибки – попытка управления без цели управления. Ни одна программа не заканчивалась выполнением – все они очень быстро перетекали в новые, созданные в кабинетах московских чиновников задолго до ее окончания.
После вторжения в Афганистан научное сотрудничество с США сошло на нет, экспедиции в основном работали – демонстрировали флаг - на Сейшелах и во Вьетнаме, периодически в Индии, на Маврикии и Мадагаскаре и в Шри-Ланке. Экспедиционные корабли часто переходили с одной точки работ на другую, для экспериментаторов было бы гораздо правильнее подолгу комплексно работать на немногих выбранных полигонах. Это понимали, правительство Сейшел выделило место для строительства морской биостанции, отвело дорогостоящую землю. Было много разговоров, но нужного лидера и строителя так и не нашлось, впоследствии договор аренды пустующей земли не был продлен, биостанция осталась на бумаге. Второй проблемой было качество воды в морских водопроводах научных кораблей. Нужно сказать, что морские организмы вообще, а в тропиках особенно, чрезвычайно чувствительны к самым низким концентрациям в воде тяжелых металлов. Вода для их содержания и работы должна храниться в баках из специальных пластиков, проходить по стеклянным или пластмассовым трубам, перекачиваться насосами из инертных материалов. «Каллисто» было переоборудованным траулером, понятно, что ничего этого на нем не было. Вскоре оно ушло на слом, новые корабли строились в Польше и Финляндии сразу как научные, но проектные требования составляли не институты Академии, а специалисты отдела флота. Они были инженерами и мореходами, заботились о кораблях, не об исследованиях, стремились удешевить проекты. Специальных требований к морским водопроводам с самого начала не было заложено, фирмы отказывались вносить изменения, удорожающие судно. Академия получила неплохие новые корабли, но любые биологические работы с гидробионтами встречались с трудностями. Мы работали усердно, но серьезных открытий в тропиках не сделали, было много публикаций на русском и английском, но уровень их по мировым меркам был средний.
Между тем сотрудники взрослели, защищали диссертации, становились специалистами. В 1980г мне принесли для ознакомления черновой список очередной тропической экспедиции, от нашей лаборатории целый отряд, начальник отряда М. В. Пропп. Я собирался в США, и переправил свои инициалы на инициалы жены, а начальником записал В.И. Рябушко, недавно защитившего кандидатскую диссертацию. В то время рядовым сотрудникам было запрещено выходить в рейсы за рубеж вместе с супругой, иногда в виде особой льготы это разрешалось лишь директорам институтов и членам президиума. Никто не возразил, жене открыли границу и оформили паспорт моряка. Она была хорошим аналитиком и смогла участвовать в рейсах не только Дальневосточного отделения АН СССР, но и московского Института океанологии. Нелепое правило перестало применяться только через 9 лет.
В 1985г нам сказочно повезло. Одним из сотрудников был В.Г. Тарасов, он недавно защитил кандидатскую по структуре и метаболизму мягких морских грунтов Японского моря. Водолазом он стал еще до университета, отслужил во флоте. У него была мысль, что в кратерах вулканов на Курильских островах может быть обнаружена подводная жизнь, сходная с той, которая незадолго до этого была открыта в вулканических выходах на больших глубинах – так называемые гидротермы, одно из главных открытий науки о море в двадцатом веке. Кое-какие намеки были, но настолько смутные, что просить о рейсе академического судна было невозможно, никто в Москве просто не принял бы всерьез такую заявку. Я поддерживал Тарасова, хотя почти не верил в замысел. Мне очень хотелось понырять у Курильских островов, мечта еще с самых первых лет погружений, так и не сбывшаяся за 12 лет работы в ИБМ. После нескольких лет усилий Тарасов смог получить согласие от службы военной гидрографии взять на борт группу из шести человек в рейс по обслуживанию маяков и навигационных знаков на Курилах. Ни в каких академических планах это не значилось; кроме Тарасова и меня, входили моя жена как гидрохимик, двое младших научных сотрудников с водолазной подготовкой и водолаз. Мы должны были работать во время и в местах стоянки судна с двух своих легких катеров. Совершенно удивительным образом мелководные гидротермальные сообщества были обнаружены там, где и предполагались – в кратере вулкана Ушишир на маленьком необитаемом острове на Средних Курилах. Хотя новизна была очевидна, Тарасов, как часто бывает в таких ситуациях, колебался с официальным заявлением и не доверял себе, приуменьшая важность результатов. Он был всего лишь кандидатом, я уже авторитетным доктором наук и настоял на радиограмме в президиум ДВО АН СССР с заявлением об открытии и срочном заседании президиума после нашего возвращения. То, что началось потом лучше всего охарактеризовал наш мнс: «Ну, просто роман Жюля Верна какой-то». Доклад на одном президиуме, на большом президиуме, журналистский истерический визг и гам, страна нуждалась в героях. На международном конгрессе по микробиологии иностранцы подходили к Тарасову (я не поехал) и жали руку, поздравляя с открытием. После всего этого нужно было организовывать исследования, которым теперь давали зеленую улицу. Тарасов взялся с энтузиазмом и имел большой успех. Но для меня это не было главный темой, хотя я и выполнял анализы, готовил методики и намеренно отошел на второй план. Некоторое время мы теперь участвовали в двух экспедициях каждый год – зимой в тропики, летом и осенью на Курилы. В 1987г высадились большой экспедицией на крошечный островок и работали три месяца, организовав временные лаборатории. В остальное время едва успевали обрабатывать материалы, готовить публикации, планы, методики и оборудование для новых экспедиций. Тарасов стал одним из заместителей директора по науке, на глазах вырастал в крупного организатора, выступал с докладами, приглашал в экспедиции лучших специалистов, с нами сотрудничали ученые перворазрядных московских институтов. Успех казался сказочным, но начали проступать серьезные проблемы.
Еще во флоте Тарасов приобрел отчасти привычку, отчасти болезнь, очень обычную в России. Запои происходили редко, он их тщательно скрывал, каждый, кто приносил ему водку, делался его лучшим другом, тот, кто пытался помешать или хотя бы заговаривал - злейшим врагом. Приехав на биостанцию, я обнаружил его в моей запертой комнате в невменяемом состоянии. Я действовал жестко – вызвал скорую помощь и свез его в психиатрическую клинику. Его положили и вывели из запоя, но лечить алкоголизм не стали, это делается в плановом порядке и требует времени. Через три дня его выписали, и я поставил перед ним выбор – увольнение или серьезное лечение. Тарасов выбрал второе. Руководители института и Дальневосточного филиала то ли делали вид, то ли действительно не замечали происходящего. После лечения Тарасов очень энергично взялся за организацию новых экспедиций и стал скорее менеджером и организатором, чем исследователем. В московских кругах он имел большой авторитет.
К концу восьмидесятых абсурд Советского Союза стал заметно смягчаться, старые ограничения никто не отменял, но они все чаще игнорировались. В 1989г Институт отправил на Сейшелы и Мадагаскар большую морскую экспедицию почти на полгода. Начальник хотел взять с собой жену, тоже научного сотрудника. Он не стал просить никаких разрешений, просто внес в состав три супружеские пары, в том числе и меня с женой. Никто ничего не запретил, экспедиция прошла гладко. Мы возвращались через процветающий Сингапур - причалили во Владивостоке и были поражены изменениями. В порту у причала стоял японский легковой автомобиль – первая ласточка потока, который вскоре захлестнул Дальний Восток и всю страну. В большом универсаме народ нарасхват разбирал пшено - единственную крупу в продаже, у пустого прилавка кишела толпа – ждали, что выбросят сыр. Магазины поменьше были вообще пусты.
На руководящие должности стали выбирать –предстояло голосование на должность заведующего лабораторией. Я не стал подавать заявление – Тарасову предстояли большие дела, новые экспедиции, ему и карты в руки. Тарасов прошел единогласно, я сделался главным научным сотрудником. Предполагалось, что на Тарасова ляжет огромная экспедиционная работа, мне останется чисто научная часть. Получилось иначе. Тарасов вовсе не занимался лабораторией и неделями в нее не заходил, вспоминал о сотрудниках, лишь когда требовалось подавать планы и отчеты. Через его руки проходили большие экспедиционные деньги, но в лабораторию не попадало ни рубля. Он приглашал сторонних специалистов и считал себя соавтором всех сделанных работ. Талантливый компилятор, он составлял коллективные монографии и издавал их в московских издательствах. Никто не возражал. Я походил на свадебного генерала, сотрудники ориентировались на Тарасова и экспедиции.
Другие затруднения оказались скорее техническими и научными. Распространение СПИДа вызвало переход медицины на одноразовые пластиковые шприцы. Пластик проницаем для кислорода и для научных целей они были непригодны, а стеклянные шприцы в СССР перестали делать. В небольших количествах их выпускали для научных целей в США и Японии, но теперь это были точные и довольно дорогие инструменты. Для нас они были недоступны, мы ориентировались только на имеющиеся запасы. Если под водой водолаз (а водолаз он и есть водолаз) ломал шприц, это стало невозместимо.
Во всем мире анализы воды все больше выполнялись автоматическими анализаторами. Ручной анализ еще применялся, но только в удаленных мелких лабораториях и на небольших судах. Автоматический анализатор – сложный современный прибор, его устанавливает, калибрует и поддерживает фирма - производитель. Обслуживает его не химик-аналитик, а техник, который должен строго придерживаться регламентов. Совершенствовать что-то могут лишь в лабораториях фирмы. Такой анализ – поточное производство данных. Судно на ходу беспрерывно засасывает воду с нескольких горизонтов, из анализатора идет лента с распечаткой результатов, которые одновременно вносятся в память компьютера. В береговых лабораториях пробы замораживают или консервируют и доставляют в центральную – анализатор должен работать непрерывно. Довольно трудный анализ морской воды на общее содержание органического вещества в США выполняется всего в двух лабораториях, по одной на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях. Всякое усовершенствование ручных методов анализа стало анахронизмом и мало кого интересовало.
В России анализаторы применялись пока только в Московском институте океанологии, но трудности были в другом. В университетах и Академии исследователь может пользоваться любым методом по своему выбору, но большая часть анализов вод выполняется в системах гидрометслужбы, рыбного хозяйства и охраны природы. Там должны были применяться только стандартные (по ГОСТ) методы анализа, многие из которых устарели и малоэффективны. Позднее ГОСТ заменила система государственной сертификации. Сертификация проходит через государственные центры, процедура длительная и весьма дорогая, нужно оплатить командировки и работу нескольких приглашенных специалистов. Еще в 1977г мы усовершенствовали и опубликовали в авторитетном всесоюзном журнале «Океанология» метод определения нитратов в воде, позднее он вошел во многие методические руководства. Метод был хороший, но использовался лишь в нашем институте и немногих связанных с ним лабораториях. Только более чем через 30 лет он прошел сертификацию на Сахалине. Работы там велись по заказу крупнейших нефтяных компаний, обязанных отслеживать экологию моря в местах добычи нефти и газа, денег было много. Оценивали результаты японские и американские эксперты и были вполне удовлетворены качеством. Сахалинские исследователи и оплатили из нефтяных денег сертификацию, хотя для иностранных экспертов она не требовалась. Но и после сертификации усовершенствованная методика распространялась очень медленно, так как гидрохимики очень консервативны.
В 1990г мы ушли в последний тропический рейс. Исследовали гидротермы Новой Зеландии, Новой Гвинеи, Вануату, а СССР был при последнем издыхании и разваливался на глазах. Мы вернулись в другую страну. Поражали пустые читальные залы и выставки новой литературы в библиотеках. Советский Союз покупал научные журналы с 1924г, даже в тяжелейшем 1942г, теперь не было денег ни на что. Президент академии не мог вылететь в США, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве – не было денег на билет, касса академии была пуста. Институты не могли купить лампочки взамен перегоревших и вставить выбитые стекла, суда ржавели у причалов – не было денег на краску. Перестал ходить автобус между институтом и биостанцией – не было денег на бензин. Рубль стоил меньше цента и дешевел с каждым днем, выплату зарплаты задерживали. Даже чиновники притихли, хотя они и получали зарплату регулярно, и поток бумаг резко уменьшился. Нужно было выживать в новых условиях. Стало не до исследований тропиков и вулканов, нужно было искать новые темы работы и источники финансирования.
Сотрудники побежали из Академии. Молодой и перспективный старший научный сотрудник, который начинал у нас студентом младших курсов и которого я готовил к серьезной работе много лет, пришел увольняться. Он занимался газовой хроматографией и изотопным анализом азота. «Я не могу работать с детекторами, которые по чувствительности уступают американским в 1000 раз. Я не могу проводить изотопный анализ – уже два года нет жидкого азота для охлаждения масспектрометров и детекторов изотопов». Он был умный, с хорошими руками, работал чисто и быстро, только научная мотивация была слабовата. Ушел в финансовую сферу, потом стал менеджером в международном фонде охраны природы. Другие уходили в бизнес, в торговлю, уезжали за границу.
Приходилось искать новые темы и поддержку. Мой американский друг и коллега посоветовал мне обратиться в международный фонд поддержки подводных исследований, тот помогал начинающим исследователям в разных странах – например, обследованию озера Иссык Куль в Киргизии, поведения китов у берегов Аргентины. Я тоже сошел за начинающего, так как был из экзотической России. Коллега был одним из четырех директоров, гранты были небольшие, несколько тысяч долларов. В то время перелет Владивосток-Москва стоил 34 доллара, а научный сотрудник получал меньше доллара в день. Это позволило мне купить японские стеклянные шприцы, шланги для перистальтических насосов из силикона и тайгона, герметики. Я смог платить сотрудникам за бензин, когда они ездили на станцию, поддерживать погружения профессионального водолаза, когда без него было не обойтись. Это определяло разницу между прозябанием и работой. Нашлись и небольшие темы для исследований, пригодных для публикации. Работа шла три года, на четвертый проснулись чиновники и прислали новые требования к держателям иностранных грантов. Я должен был предоставить сведения, заверенные в консульстве в Сан-Франциско, что фонд благотворительная организация, приложить полный финансовый отчет с подтверждающими документами, массу других бумаг, платить налоги. Фонд работал на общественных началах, четыре директора общались по телефону и интернету и редко встречались лично, секретарша работала за четверть ставки по полдня через день за единственным столом с компьютером, принтером и факсом. Фонд был не благотворительной, а некоммерческой организацией, для американцев такая же разница, как между подачей милостыни и наймом на работу. Справка, заверенная в консульстве, американцами воспринималась как непостижимая азиатская хитрость. Условия предоставления грантов включали пункт, что ни один доллар не пойдет иностранному правительству. Я написал вежливое письмо, что более не буду претендовать на поддержку фонда.
Тут на сцене появился РФФИ, которым руководил академик В.Е.Фортов и начал очень хорошо, не хуже американцев. На третий год и он оброс бюрократией настолько, что оставалось отказаться и от его поддержки.
Через несколько лет я смог найти новую серьезную тему и приступить к систематическим исследованиям. В прибрежных районах океана широко распространены песчаные грунты. Было известно, что волны на поверхности моря вызывают движение воды в проницаемых осадках, так называемую волновую перколяцию. Этот самый крупный в глобальном масштабе процесс фильтрации морских вод во многом подобен турбулентности и очень труден для теоретического и практического исследования. Я надеялся, что в проточной системе смогу смоделировать перколяцию и изучить обмен кислорода и биогенных элементов между фазами. Начались подготовительные работы, сбор и исследование состава поровых вод в песках, подготовка установок. Теперь дело сильно осложняло отсутствие сотрудников, почти вся работа ложилась на меня одного. Мне было уже 58 лет, длительная работа под водой становилась тяжелой и трудной, во время экспериментов в лаборатории мне приходилось работать, не отходя от установки полные сутки, и я сильно уставал, порой ошибался. С самого начала я сделал ошибки, которые бывали у меня и раньше – проточная система была слишком сложной, мелкие недоделки и источники ошибок не были до конца выявлены и устранены, следовало начинать с двух-трех пилотных методических прогонов, но на это не было ни сил, ни времени. Опыты были выполнены, но я не смог избежать неточностей, которые снижали качество результатов. К тому же перколяция природного грунта сильно варьировала в параллельных ячейках, вторичные эффекты снижали воспроизводимость и точность измерений.
В следующем году возраст напомнил о себе – то, что сперва казалось травмой колена, было проявлением артроза. Американские лекарства подавляли симптомы, но не излечивали. Я мог работать в лаборатории, но с погружениями было покончено. Хотя основные опыты шли в лаборатории, но подготовка и отбор проб под водой требовали большой тщательности и хороших навыков. Мне пришлось привлечь профессиональных водолазов, для которых это было совершенно ново и не всегда пробы были правильно собраны. Были написаны четыре статьи, вместе с математиком построена модель процессов перколяции, их пришлось публиковать на русском, свежая иностранная литература стала недоступна. Работы были неплохие, но частные, общей картины явления я не сумел получить. После окончания обработки и публикации мы получили международную премию МАИК, но работу пришлось свернуть.
Была еще одна сверхзадача, которая занимала меня много лет. Я стремился найти прямое микробиологическое окисление аммиака в азот. Были хорошо известны нитрифицирующие микроорганизмы, которые окисляют аммиак кислородом до нитрита и нитрит до нитрата. Денитрифицирующие организмы восстанавливают нитриты и нитраты до азота. Оставалось загадкой, почему не найдено термодинамически наиболее выгодное окисление аммиака до азота. Несколько авторов писали о такой возможности, даже заявляли, что вот-вот сообщат об обнаружении этого процесса, но ни одна публикация так и не вышла из печати. Проблема была очень трудной – аналитическое определение затрудняла атмосфера воздуха, концентрация азота в котором на много порядков превосходила ожидаемый эффект. У азота нет удобных радиоактивных изотопов, а чувствительность метода стабильных изотопов невелика. Сопряжение нитрификации и денитрификации в одном образце дает эффект, неотличимый от предполагаемого процесса. Следовало придумать какой-то обходной путь и время от времени у меня появлялись замыслы, как это можно осуществить. Я готовил и проводил опыты, но ни разу не получил даже намека на ожидаемые результаты. Я искал возможные причины неудач, думал и снова ставил опыты, и всегда они были безрезультатны. Могло быть много причин, неудачи не доказывали, что такого процесса нет, только то, что он не был обнаружен. Возможно, другие сумеют его найти, самое подходящее место – морские пески, где есть и аммиак и кислород.
Я читал работы одного из основателей современной микробиологии С.Н. Виноградского. Он прожил очень долгую и очень сложную жизнь. В оккупированной гитлеровцами Франции было невозможно вести исследования, и он написал обширный труд, частью расширенное описание своих исследований на рубеже девятнадцатого - двадцатого веков, частью научный дневник своих работ и всей жизни. Мне было интересно, как он работал и я прочел: «я провел еще двенадцать серий опытов, все они были неудачны». В нашей науке ни один научный сотрудник так написать в отчете и подумать не может – типичный пример нашего двоемыслия, полностью унаследованного от прошлого, расписываются лишь успехи и открытия.
Между тем чиновник в науке оживал и добился двух крупнейших успехов – почти превратил исследователя в свое подобие. В чиновники приходят разными путями – так, один из советников президента Б.Н. Ельцина по науке окончил лишь физкультурный техникум, но большинство получается из научных сотрудников. Защитив диссертацию, они занимают позиции в государственных и муниципальных структурах, в разных агентствах, хорошо оплачиваемые, с устойчивым будущим и перспективой роста. Переход от исследователя к чиновнику похож на перемену вероисповедания – человек тот же, но основы и критерии поведения совсем другие. К этому времени среди молодых сотрудников преобладали те, кто вообще ни разу не встречал исследователя в его повседневной работе. В вузе это был предельно перегруженный учебными занятиями преподаватель, на практике в институте - заведующий, занятый делопроизводством, движением документов, грантами, отчетами, получением средств и их распределением. Молодежь вполне искренне считала, что это-то и есть научная работа. Для них чиновничьи должности были естественным и желанным достижением. Исключения встречались, но редко.
Вторым достижением стало введение единой системы оценки и оплаты научного труда. В СССР научный персонал получал фиксированную зарплату (оклад), в зависимости от ученой степени и должности, небольшую премию в конце года распределяла дирекция. Теперь, после длительных усилий и дискуссий, появилась стимулирующая система в виде начисления баллов. Кроме небольшой фиксированной выплаты, научный сотрудник получал баллы за печатную продукцию с учетом объема публикации, ранга журнала или книги – зарубежные публикации ценились много выше, а тезисы ниже среднего, за предоставление и защиту диссертации, за преподавательскую работу и за включение своих достижений в отчет – в отчет института умеренные баллы, в отчет отделения куда выше, в отчет академии – заоблачно. Ученый совет обсуждал корректирующие коэффициенты и их применение в каждом учреждении. Программисты трудились над компьютерными программами и на каждый квартал вывешивались огромные листы с оценкой труда каждого сотрудника, а бухгалтерия вычисляла денежную стоимость балла. Дополнительно держатель гранта распределял выплаты по гранту каждому участнику, в том числе и самому себе.
Система заработала, но не совсем так, как предполагалось. Сотрудники засели за компьютеры и завалили журналы и издательства рукописями, в значительной степени по результатам, полученным много лет назад. Диссертационные работы пошли в редакции валом, а их было принято печатать в первую очередь. Портфели журналов наполнились, но сделать хорошую работу гораздо труднее, чем плохую, качество публикаций понизилось, место научных результатов заняла писанина. Резко упала цитируемость работ, как в отечественной, так и особенно в мировой литературе. По данным института научной информации (SCI) Советский Союз занимал второе место, сильно уступая только США, теперь Россия опустилась на двадцатые места, ниже Дании, Кореи и Финляндии. Тираж англоязычной версии журнала «Биология моря» упал с 200 до 20 экземпляров. Страна потеряла научный престиж, научный персонал эмигрировал или переходил в другие сферы, катастрофически снизился авторитет занятий наукой среди молодежи, очень мало выпускников поступало в академические институты, а из приходящих далеко не все имели достаточную мотивацию и способности.
Главный научный сотрудник с нулем баллов всем представлялся совершенно невозможным, а гнать писанину я не умел и не хотел. Вопрос разрешился неожиданно, при очередном медицинском осмотре уровень одного из онкомаркеров оказался опасно высоким. В день своего 70-летия я получил в современном медицинском учреждении диагноз – онкология, через неделю лежал под лучем и принимал противораковые препараты. Потом длительное пребывание на листке нетрудоспособности и постоянная вялость и усталость – поднять себя с дивана или согнать с кровати стало предельно трудно. Через несколько месяцев я вышел на работу инвалидом третьей группы с рекомендацией заниматься только кабинетной работой. Тарасов потребовал годовой отчет, я ответил, что могу сообщить только о пребывании в клиниках и лечении, науки в этом никакой не вижу и писать не стану. «Ученый секретарь будет очень недоволен» - сказал он, « страшнее зайца зверя нет» - парировал я, и вопрос был исчерпан. Оставалось только пойти к директору и попросить уволить меня по сокращению штатов, это увеличивало выходное пособие. Меня попросили подождать два месяца до очередной компании сокращений и позднее я расписался, что ознакомлен с приказом об увольнении. Сотрудники выражали удивление, что меня уволили с такой мотивировкой и без всяких церемоний и не знали, что это было по моей же просьбе. В прошлом для пенсионеров была предусмотрена должность профессора-консультанта, теперь ее могли занимать только академики и члены-кореспонденты. Возможно, года два отдыха могли бы частично вернуть мне работоспособность, но времена были такие, что не стоило и просить. Активный период моей жизни был окончен, меня ждала жизнь пенсионера, но в тот момент мне больше всего хотелось лечь и полежать.
С тех пор только два события заслуживают упоминания. Тарасов успешно руководил несколькими экспедициями – не только научными, но и для японских телекомпаний и различных международных фондов. Он удачно компилировал и писал разделы в разных монографиях, защитил докторскую, но это давалось с большим напряжением и он снова стал пить. Здоровье начало сдавать, а он, когда-то крепкий, болеть не умел, нервничал, пытался лечиться сам, менял врачей, не доверяя местным специалистам. Чуть не впервые в жизни взял отпуск и поехал к московским светилам. Он лежал на обследовании и был обрадован авторитетным заключением, что операция на сердце ему не нужна. Выписался, поехал к своим дальним родственникам и на радостях запил. Парился в сауне (был большой парильщик), вышел из парной на веранду, упал и умер. Ему был только 61 год. Крайне противоречивый человек, он знал большой успех, видел все небо в алмазах, ему выпало счастье бесспорного открытия. С его смертью сошло на нет отечественное изучение мелководных гидротерм, хотя выделенные из них термофильные микроорганизмы поддерживаются в культуре в Институте микробиологии и до сих пор. Он начинал как мой ученик в гидробиологии и водолазном деле, мы работали вместе много лет, часто вместе рисковали и над и под водой, все это теперь ушло в прошлое.
В 2012г, к моему удивлению, Институт решил отметить мое 75летие, отказаться было невозможно. В библиотеке была организована большая выставка – много моих фотографий разных лет, кипа пыльных оттисков, обложки научных и популярных журналов, книги, разные регалии, почетные грамоты и дипломы. Я смотрел и понимал, что теперь все это мне уже совсем неинтересно, не нужно и не вызывает никаких чувств – это было прошлое - страшное слово, означающее, что всего этого уже нет.
В директорском кабинете был организован банкет для избранных. Я сидел и слушал хвалу с соответствующим выражением лица и вспомнил, как Ходжа Насреддин победил в соревновании в восхвалении эмира – « прислужники схватили ходжу и набили ему рот шербетом и сластями так, что он не мог его закрыть и сладкие слюни потекли по подбородку». Как бы это выглядело, если бы с ораторами так поступали и теперь. Потом мысли ушли к более серьезным предметам, вспомнил Эренфеста «В момент открытия нового исследователь испытывает такой восторг и восхищение, что никакие знаки человеческого признания не могут добавить почти ничего». Открытия у меня были куда жиже и меньше, чем у Эренфеста, мой ранг в науке был гораздо ниже, Нобелевской премии я не получал, но хорошо понимал выраженные им чувства. Но все это уже ушло, я жил теперь личной и совершенно частной жизнью старика-пенсионера.
Меня называли лучшим водолазом среди ученых и лучшим ученым среди водолазов и оценивали очень по разному – считали и гением, и крупным ученым, и шарлатаном, говорили, что я не раскрыл своих способностей, разбрасывался. Но я не был ни тем, ни другим, ни третьим, я был улучшатель, довольно легко подхватывал новое, брался за работу, усовершенствовал и применял. Я нередко завидовал своим коллегам-систематикам, которые всю жизнь работали над одной группой животных, некоторые за всю жизнь ни разу не воспользовались отпуском, к концу жизни накопленных знаний и коллекций было достаточно, чтобы обеспечить их работой от ухода на пенсию и до последних дней. Я просто был не такой. Десять лет своей жизни я почти не вспоминал о химии, открывая новые горизонты под водой, но остальные годы был химиком по подходу и по методам исследований. В биологическом исследовании моря экспериментаторы появились уже давно, но все же преобладали и теперь преобладают те, кто искал, наблюдал, находил и описывал новые факты, но дальше не шел. Если бы не химия и обучение на химфаке я, скорее всего, тоже не вышел бы за традиционные рамки. В основе я всегда был и оставался химиком, изучающим химическими методами процессы жизни в море. Спасибо химфаку и моим учителям.
Подробнее в книгах:
Пропп М.В. 1968. С аквалангом в Антарктике. Л., Гидрометеоиздат. 269с.
Наумов Д.В., Пропп М.В., Рыбаков С.Н. 1986. Мир кораллов. Л., Гидрометеоиздат. 360с.
Пропп М.В. 1991.В глубинах пяти океанов. Л., Гидрометеоиздат. 265с.
Пропп М.В. 2003. Homo naturalis. Кто мы? Зачем мы? Куда идем? М., Лабиринт. 318с.
Михаил Владимирович Пропп
Доктор биологических наук
Заслуженный деятель науки России

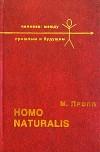
- Войдите чтобы оставить комментарии

